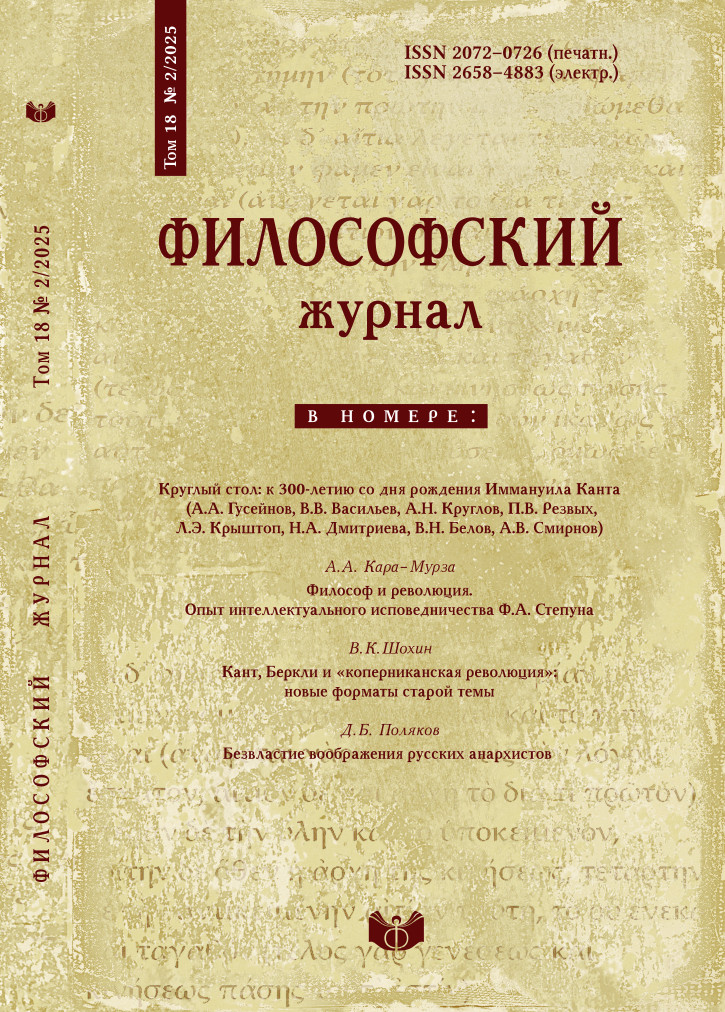Кант навсегда
DOI:
https://doi.org/10.21146/2072-0726-2025-18-2-5-14Ключевые слова:
Кант, кантоведение, предмет философии, этика и теория познанияАннотация
Статья представляет собой выступление в рамках панельной дискуссии о современном значении философии Канта, на которой обсуждались два вопроса: «Почему Кант?» и «Кант: свет и тени». В ней кратко рассказано о возникновении и общем замысле данного обсуждения. Как показало празднование 300-летнего юбилея Канта, а также итоговая конференция, проведенная Институтом философии РАН и четырьмя философскими факультетами (институциями) московских университетов, Кант в нашей стране специалистами и обществом в целом воспринимается как несомненный авторитет и классик философии. Он вошел в нашу культуру как мыслитель, который учит подчиняться разуму и следовать свободному голосу собственной раскрепощенной совести. Такой итог явился результатом длительной работы по рецепции наследия философа, которая проходила особенно интенсивно последние пятьдесят лет. Эта работа достигла нового качества, но не завершена, Кант остается предметом живых современных дискуссий. В статье подчеркнуто, что наше восприятие Канта отмечено сильным этическим креном, что выражается не в том, что его моральное учение преувеличено, а в том, что оно вырвано из всей его философской системы. Поставлен вопрос о том, что акцентирование системной целостности философии Канта является одним из актуальных вызовов, выходящих за узкие рамки кантоведения. Современная философия, рассмотренная в целом, разделилась на части, которые существуют в качестве профессионально обособляющихся самостоятельных наук. Вторая кантовская критика в своем развернутом точном значении является критикой чистого практического разума. И сам Кант в тексте по преимуществу пользуется именно этим полным обозначением. Эта связь двух критик, понимание второй как прямого продолжения и завершения первой слабо акцентируется в общих отечественных очерках философии Канта и практически исчезает в специальных очерках его этики. Оторванный от гносеологического базиса, нравственный закон повисает в воздухе: с одной стороны, теряется связь с ноуменальным миром свободы как его основанием, а с другой стороны, блокируются каналы, соединяющие добрую волю с практической волей эмпирических индивидов. Тем самым идея примата практического разума, составляющая внутренний нерв философии Канта, лишается реального содержания, а этика неизбежно обрекается на морализирование, которое самому Канту, по сути, совершенно чуждо. При ответе на второй вопрос дискуссии обращено внимание на необходимость дальнейшего исследования того, как соотносятся понятия трансцендентального субъекта и эмпирических субъектов в живом опыте познания и человеческого поведения.